Региональная специфика структур стабильности
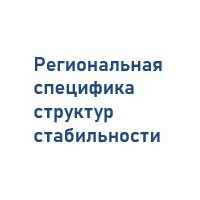
Формы стабильности и структурированность региональных отношений
- Тезис о будто бы присущей азиатско-тихоокеанскому району большей нестабильности по сравнению с Европой — общее место в трудах 1970-х и 1980-х годов.
- Эта точка зрения, основанная на «здравом смысле» и внешне очевидной констатации, тиражировалась в десятках публикаций.
- Даже поколение специалистов, заявивших о себе в годы «перестройки», не пыталось ни опровергнуть, ни поставить этот тезис под сомнение, несмотря на характерный для 1988-1991 гг. импульс дать новую трактовку обстановки в Восточной Азии.
- Для уточнения оценок есть основания. Очевидно, что менее стабильной ситуация в Азии могла казаться на фоне «конфронтационной» стабильности в зажатой противостоянием НАТО и Варшавского договора в Европе.
Региональная специфика структур стабильности — из истории
С распадом Варшавского договора, начавшимся вскоре национально-территориальным переделом в Югославии, разрушением СССР и возникновением войн на пост-советской территории ситуация в Восточной Азии перестала укладываться в стандартные представления о критериях стабильности и нестабильности.
В регионе не было ни одного конфликта, сопоставимого по интенсивности с войнами в Югославии, Таджикистане и Закавказье. С долей осторожности можно предположить, что нет явных оснований ожидать возникновения таковых в близком будущем.
Представляется уместным поставить вопрос о возникновении за последние десятилетия в Восточной Азии механизма неформализованных, полуофициальных политико-дипломатических связей и отношений.
Которые во взаимодействии с местными формализованными структурами обеспечения экономического взаимодействия и безопасности продемонстрировали достаточно высокий уровень способности амортизировать перепады в региональной политической обстановке.
Предупреждать крупномасштабный конфликт, а также компенсировать возникающие ограниченные нарушения устойчивости региональной подсистемы.
Региональная специфика структур стабильности. Тип этой стабильности, как очевидно, является иным, чем европейской — сообразно тому, что исторический, геополитический и иной Восточной Азии сильно отличается от того, на котором складывались последовательно сменявшие друг друга в ХVII-ХХ веках структуры региональных отношений в евро-атлантической части мира.
Опыт последней, между тем, во многом определил нормативность мышления теоретиков и практиков международных отношений.
Поэтому за эталон стабильности был принят единственный ее вариант — статический, действительно существовавший в Европе с начала 1960-х по начало 1990-х годов.
Оттого непривычно «колеблющийся», не структурированный жесткими обязательствами тип региональной структуры, который удерживает АТР от общего конфликта, внешне казался примером хронической нестабильности — хотя устойчивый, даже устойчиво низкий, уровень этой нестабильности должен был бы бросаться в глаза.
Региональная специфика структур стабильности. Ситуация отсутствия «большого» конфликта и его реальной угрозы сохраняется в АТР с начала 1970-х годов — около 20 лет.
Для сравнения: в Европе «порядок Бисмарка« продолжался не более 15 лет (хотя, строго говоря, только десять — с момента заключения союза с Австро-Венгрией и Россией в 1879 г. до отставки самого О. фон Бисмарка в 1890 г., а венский порядок образца Священного Союза — даже того меньше.
Включив в оборот понятие динамической стабильности, можно полагать, что в Восточной Азии складывается региональная модель стабильности динамического типа; процесс этот достиг среднего уровня зрелости, хотя, по-видимому, еще далек от завершения.
В самом деле — 40-летнее вялотекущее противостояние в Корее.
Длящееся более трех десятилетий негласное согласие сторон на сохранение статус-кво в Тайваньском проливе.
Полу символический почти 50-летний территориальный спор Японии с СССР и Россией в рамках почти безупречного дипломатического этикета.
Наконец, прагматично выверенные, не всегда дружелюбные, но устойчивые вот уже около 20 лет отношения СССР/России с Китаем.
Китая — с США и Японией.
Вьетнам, с его, возможно, наиболее острым после успехов 1973-1975 гг. (окончание вьетнамской войны и объединение с Югом) «синдромом победителя», после периода не очень удачных силовых демонстраций около двух десятилетий сохранял временами не свободные от настороженности, но вполне стабильные и далекие от конфликта отношения с государствами АСЕАН, которые в 1995 г. переросли в тесное партнерство.
Даже конфликт в Камбодже после прекращения в 1978 г. силами Вьетнама само истребляющего правления режима Пол Пота приобрел черты «внутренней компенсированной», «войны по правилам», от которой страдало местное население, но которая выплескивался вовне в основном в форме гуманитарной проблемы кампучийских беженцев.
Оценки положения дел в Восточной Азии начинают меняться.
Региональная специфика структур стабильности. В этом смысле впереди военные теоретики.
Томас Уилборн
- Сослаться следует прежде всего на Томаса Уилборна, ведущего эксперта по восточно-азиатским делам в американском Институте стратегических исследований.
В 1994 г. в авторском разделе аналитического обзора региональной ситуации он определенно заключил: «Восточная Азия и Западная часть Тихого океана остаются районом большой экономической силы и относительной стабильности во всем, за исключением Корейского полуострова».
В своей более ранней работе он дал видение региональной стабильности — наиболее близкое к адекватному из всех известных.
«Региональную стабильность в качестве цели внешней политики США следовало бы определять не как статус-кво и не как предсказуемость отношений в области безопасности с предполагаемым противником (за исключением положения в Корее), но, совершенно точно, как среду (environment), в которой лидеры региона считают положение своих стран в достаточной степени безопасным для того, чтобы они могли продвигаться к осуществлению национальных и международных задач без опасений по поводу внешних угроз и необходимости отвлекать избыточные средства на вооружения и военные нужды».
Непривычное, оригинальное определение, интересное еще и тем, как удачно автор оттенил логическую оппозицию — статус-кво и предсказуемость военной политики, с одной стороны, и среда, окружающее пространство, с другой.
- Две черты кажутся характерными для ситуации в регионе. О первой из них написано много.
- Это — слабая структурированность региональных отношений в области политики и безопасности, выражающаяся в отсутствии мощных и претендующих на всеобъёмность многосторонних блоков. Двусторонние союзы в области безопасности превалируют, но и они не типичны. Четко фиксированные обязательства и объединяющие цели также не типичны.
- Вторая черта — иной, чем в Европе порог, отделяющий «запредельную» конфликтность от «нормативной».
Под первой понимается та, что неминуемо повлечет за собой обще региональную войну, под второй — та, при которой мир в регионе в целом может сохраниться.
Политики и общественность предпочитают не касаться этого существующего на практике различия, ибо как факт международной жизни оно аморально.
В анализе же — от этой реальности трудно абстрагироваться. Тем более, когда важно констатировать: в отличие от Европы 1945-1991 гг., где любой конфликт мог считаться потенциально «запредельным», в Восточной Азии наличие нескольких «нормативных» конфликтов оказалось совместимым с сохранением мира на общерегиональном уровне.
Бoльшая конфликтность мировой периферии по сравнению с центром отчасти — побочный результат политики сверхдержав.
Принятая администрацией Дж.Кеннеди в начале 1960-х концепция «гибкого реагирования» (flexible response) определила «правила игры» США и СССР таким образом, что потенциал конфликтности был вытеснен с глобального уровня на региональный, из сферы советско-американских отношений — на периферию.
При конфронтационной стабильности сохранить общий мир по-иному было и нельзя: движение системы не могло прекратиться по воле политиков, следовательно, противоречия развития должны были возникать, а их потенциал — неизбежно тяготеть к саморазрешению.
И перенапряжения сбрасывались через региональные конфликты. Стабильность, по сути дела, распространялась избирательно — только на глобальный уровень и на Европу.
В других частях мира конфликты не были исключены. Или даже молча подразумевались.
По-видимому, к цинизму великодержавного согласия, лежащего в основе такой стабильности, следует отнести замечание Р.Kyпера, в числе слабостей системы времен «холодной войны» назвавшего отсутствие в ней морали, даже по сравнению с ХIХ в., когда все же существовали рационалистические основания равновесия и правительства большинства стран их признавали5.
Но дело не только в морали. Мировая периферия была поставлена сверхдержавами в положение, при котором странам условно второстепенных по сравнению с Европой регионов в обеспечении стабильности приходилось больше ориентироваться на собственные усилия, чем на вовлеченность обоих глобальных полюсов силы, каждый из которых (США — после окончания вьетнамской войны в 1973 г., а СССР — после начала афганской в 1979 г.) настороженно воспринимал перспективы расширения сферы своей прямой военной ответственности за рубежом.
Оказавшись в какой-то мере предоставленным самому себе, периферийный мир должен был дать свой иммунный ответ на ослабление сверхдержавной активности.
Должны были сработать какие-то защитные механизмы региональной подсистемы, которая в противном случае могла погибнуть. В той же мере, как очевидно, что этого не произошло, уместна и постановка вопроса о формировании в Восточной Азии собственной модели стабильности на основе сочетания малых конфликтов с общей для местных стран заинтересованностью в региональном мире, несмотря на них.
Для возникновения в Восточной Азии особой модели стабильности имелись основания — структурные, геополитические и политико-психологические.
Отношения в Восточной Азии тяготели, если следовать терминологии современного русского исследователя Валерия Алтухова, к «кольцевой» структуре развития6, тогда как в Европе — к лучевой. Европейские интересы и страхи «пронизывали», как лучи, всю толщу европейских дел, придавая большинству вопросов безопасности отдельных стран общеевропейское значение.
В этом сказывались геополитические условия Европы (малое пространство, высокая коммуникационная проницаемость). Не удивительно, что в Европе оказалась сильной традиция централизации и стремление к ней в форме почти непрерывной борьбы за гегемонию.
В Азии в силу многих причин «сквозные» проблемы безопасности отсутствовали, по крайней мере, до перехода в активную фазу японской экспансии в 30-х годах ХХ в.
В АТР своего регионального «Центра», за исключением относительно краткого периода доминирования Японии в 1930-х — начале 1940-х годов, не сложилось.
Регион не знал традиции чередования периодов гегемонии то одной, то другой наиболее мощной страны, как это было типично для Европы.
Военно-политическая централизация, сопоставимая с той, что возникала в Европе на протяжении большей части ХIХ и ХХ веков, в Тихоокеанской Азии не состоялась.
В этой части мира превалировали горизонтальные отношения — здесь существовали замкнутые и относительно взаимно изолированные «кружки» или очаги интересов безопасности, из которых ни один не был общерегиональным — слишком пространным был регион, и слишком специфичными были военные угрозы в его отдельных частях.
В психологическом смысле, все европейские страны были настолько сильно вовлечены в общеевропейские же проблемы, что, в известном смысле, в Европе вообще не было «периферии» («низа») — по контрасту с «центром» («верхом»); так сильно был структурирован этот «низ», и так глубоко он был «вертикально» интегрирован в общеевропейские дела.
В Азии о вертикальной структурированности подсистемы можно было говорить лишь постольку, поскольку колониальные державы пытались манипулировать колониями. Национальные интересы местных элит были сугубо «горизонтальными», местническими, региональными. И в той мере, как национализм отвергал политику колониальных держав, идея вертикальной интегрированности, самовключения в дела европейских государств оставалась для местных элит чуждой.
Понятия централизации и иерархичности, привычные и считавшиеся полезными в Европе, в Азии казались чужеродными, непонятными и — более того — опасными.
Между тем, идея многосторонних блоков для обеспечения безопасности как раз эти идеи централизации и иерархии и воплощала. Отчасти поэтому, органически совмещаясь с европейской психологией, она не сопрягалась с восточно-азиатскими реалиями.
Когда в Европе после второй мировой войны появились новые претенденты на верховенство/гегемонию — СССР на востоке и США на западе — «центро-лучевая» традиция межгосударственных отношений не противодействовала и даже способствовала быстрому оформлению региональных центров-блоков.
В Восточной Азии на фоне отсутствия явных для большинства местных стран очертаний потенциального центра-гегемона попытки перенести европейский опыт многосторонних союзов наталкивались на непонимание как не соответствующие туземной традиции «круговых» (горизонтальных) отношений.
Разумеется, после 1945 г. в Восточной Азии за место регионального центра-гегемона боролись, по крайней мере, две державы — Советский Союз и Соединенные Штаты.
Однако подобный центр в АТР так и не возник — не столько из-за ошибок «верха» (лидеров), сколько в силу объективного отсутствия «низа» — более или менее многочисленной группы слабых стран, которые были бы способны и согласны стать опорой общерегиональной иерархической структуры, построенной по типу европейских7.
Стоит указать на многозначительное противоречие. Европейская политико-интеллектуальная традиция располагает огромным преимуществом в теоретических разработках проблем стабильности.
Региональная специфика структур стабильности.
Но ее построения скованно открытиями эпохи конфронтационной стабильности.
На Западе только начинается поворот к выявлению подлинной роли динамики в международных отношениях. Исторически более передовая, гибкая и в этом смысле обладающая более обширными возможностями форма динамической стабильности стала складываться в условиях отставания восточно-азиатской подсистемы отношений от европейской по уровню ее структурной организации.
Напрашивается допущение, что сам по себе высокий уровень организации системы не является ключевым условием стабильности и в этом смысле не обязательно должен рассматриваться как приоритет рациональной политики государств.
Структурно неоформленные связи в принципе способны обеспечивать (и, как об этом еще будет говориться, действительно обеспечивают) подчас не меньший амортизирующий эффект, чем тот, который дают отношения, формализованные в блоках типа НАТО, Манильского пакта (СЕАТО) и т.п.
Более того, они могут быть более гибкими и адекватными региональной обстановке в условиях, как, например, это сложилось в Восточной Азии, когда отсутствует ясно выраженное и общепризнаваемое представление о потенциальной угрозе.
Данное наблюдение подвигает к постановке вопроса о том, что сама структурная неоформленность в действительности может быть просто иным способом самоорганизации.
Самоорганизации, в которой ключевую роль играют не страны-лидеры, а малые и средние государства, не способные к роли самостоятельных несущих элементов региональной структуры и поэтому обычно воспринимаемые в качестве регионального «фона» или элементов пространства.